Жизнь и судьба а солженицына. Александр Солженицын: Колесо судьбы
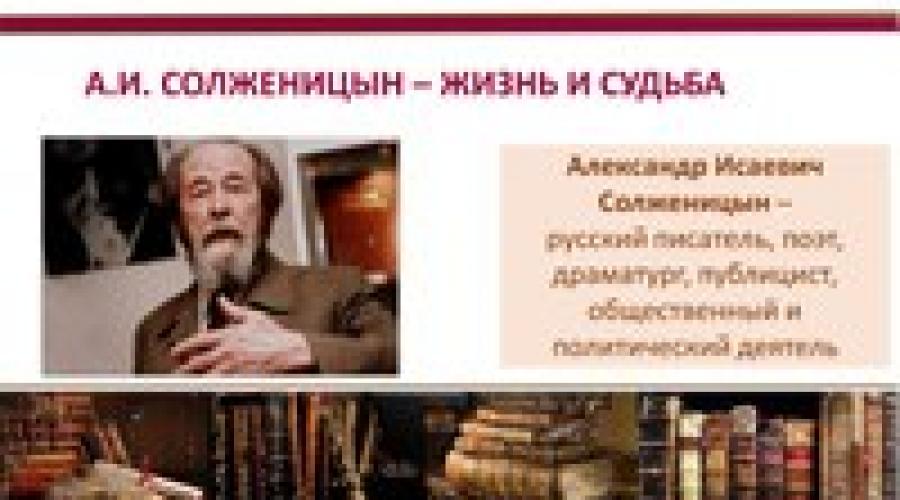
А. И. Солженицын – целая эпоха и в литературе, и в общественной жизни. Выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, академик Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ. Александр Солженицын – один из немногих писателей, вышедших из страшных испытаний победителем. Он доказал своей жизнью и литературной судьбой истинность пословицы «Одно слово правды весь мир перетянет».
Предлагаем вашему вниманию материалы тематического занятия «А. И. Солженицын – жизнь и судьба», посвящённого 100-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына.
Вариант проведения занятия [PDF ] [DOCX ]
Презентация [PDF ] [PPTX ]
Цель: формирование ценностных ориентиров обучающихся на примере личности А. И. Солженицына.
Задачи:
- систематизация знаний обучающихся о жизни и творчестве А. И. Солженицына;
- развитие навыков работы с литературными источниками;
- приобщение обучающих к духовно-нравственным ценностям.
Задание. Рассмотрите слайд и определите, о какой известной личности сегодня пойдёт речь на классном часе.
 Тема занятия.
Тема занятия.
Задание.
Посмотрите видеоролик и ответьте на вопросы, представленные на слайде.
Вопросы.
С какими историческими эпохами совпало творчество А. И. Солженицына?
Какие этапы жизни Александра Исаевича можно выделить на основании данного видеофрагмента?
Учитель:
Рассказать о писателе может не только его автобиография, но и его произведения и цитаты.
Учитель предлагает обучающимся составить ценностный портрет писателя.
Задание. Ознакомьтесь с цитатами А. И. Солженицына, представленными на слайдах, и определите, какие ценности были важны для него.
Учитель:
В качестве литературного наследия Солженицын оставил своим читателям романы и повести, публицистические статьи и художественные исследования, а также лирические произведения, которые сам называл «крохотками».
Задание. Попробуйте определить, что это за жанр крохотки, подобрав к данному слову ассоциативные слова-синонимы.
Учитель: Говоря о крохотках, А. И. Солженицын писал: «В малой форме можно очень много поместить».
Вопрос: Согласны ли вы с этим?
Задание:
Прослушайте одну из лирических миниатюр автора и ответьте на вопросы.
Вопросы:
О чём пишет А. И. Солженицын?
Почему произведение названо «Дыхание»?
Учитель предлагает прослушать ещё одну лирическую миниатюру А. И. Солженицына и ответить на вопросы.
Вопросы:
О каком биографическом факте из жизни писателя повествует лирическая миниатюра «На родине Есенина»?
Предположите, почему писатель решил посетить село Константиново.
Учитель:
Лирическая миниатюра «Костёр и муравьи» является одним из самых коротких по объёму произведений автора, но смысл, который автор вкладывает в него, гораздо больше, чем объём.
Вопросы:
О чём это произведение?
Кого напоминают вам муравьи?
Как характеризует писателя это произведение, какая ценность является наиболее важной для него?
Учитель:
Главными темами в творчестве писателя всегда были судьба и история России, государственная политика, проблема человека и власти.
Задание. Прослушайте стихотворение Александра Солженицына «Когда я горестно листаю» и ответьте на вопросы.
Вопросы:
Что, согласно содержанию стихотворения, больше всего ценит Александр Солженицын?
Как литературное творчество отразилось на судьбе писателя?
Как разительно исчезли все советские заклинания и формулы, перебранные выше! [см. статью Гроссман «За правое дело» – анализ А. Солженицына ] – и никто же не скажет, что это – от авторского прозрения в 50 лет? А чего Гроссман и вправду не знал и не чувствовал до 1953 – 1956, то он успел настичь в последние годы работы над 2-м томом и теперь уже со страстью это всё упущенное вонзал в ткань романа.
Василий Гроссман в Шверине (Германия), 1945
Теперь мы узнаём, что не только в гитлеровской Германии, но и у нас: взаимная подозрительность людей друг ко другу; стоит людям поговорить за стаканом чая – вот уже и подозрение. Да оказывается: советские люди живут и в ужасающей жилищной тесноте (шофёр открывает это благополучному Штруму), а в прописочном отделе милиции – гнёт и тирания. И какая непочтительность к святыням: «в засаленный боевой листок» боец может запросто завернуть кусок колбасы. А вот добросовестный директор Сталгрэса простоял на смертном посту всю осаду Сталинграда, ушёл за Волгу уже в день удавшегося нашего прорыва – и все заслуги его под хвост, и сломали ему карьеру. (И прежде кристально положительный секретарь обкома Пряхин теперь отшатывается от пострадавшего.) Оказывается: и советские генералы могут быть вовсе и не блистательны достижениями, даже и в Сталинграде (III ч., гл. 7), – а поди-ка бы такое напиши при Сталине! Да даже осмеливается командир корпуса разговаривать со своим комиссаром о посадках 1937! (I – 51). Вообще, теперь дерзает автор поднять глаза на неприкасаемую Номенклатуру – а видно, уж много думал о ней и на душе сильно накипело. С большой иронией показывает шайку одного из украинских обкомов партии, эвакуированного в Уфу (I – 52, впрочем, как бы и корит их за низкое деревенское происхождение и заботливую любовь к собственным детям). А вот каковы, оказывается, жёны ответственных работников: в удобствах эвакуируемые волжским пароходом, они возмущённо протестуют против посадки на палубы того парохода ещё и отряда военных, едущих к бою. А молодые офицеры на расквартировках слышат прямо-таки откровенные воспоминания жителей «о сплошной коллективизации». И в деревне: «сколько ни работай, всё равно хлеб отберут». А эвакуированные, с голоду, воруют колхозное. Да вот и до самого Штрума добралась «Анкета анкет» – и как же справедливо он размышляет над ней о её липкости и когтистости. А вот и комиссара госпиталя «жучат», что он «недостаточно боролся с неверием в победу среди части раненых, с вражескими вылазками среди отсталой части раненых, враждебно настроенных к колхозному строю», – ах, где ж это было раньше? ах, сколько же правды стоит ещё позади этого! И сами-то похороны госпитальные – жестоко равнодушные. Но если гробы закапывает трудбатальон – то из кого он набран? – не упомянуто.

Сам Гроссман – помнит ли, каков он был в 1-м томе? Теперь? – теперь он берётся упрекнуть Твардовского: «чем объяснить, что поэт, крестьянин от рождения, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства»?
И собственно русская тема сравнительно с 1-м томом – во 2-м ещё отодвинута. Под конец книги благожелательно отмечено, что «девушки-сезонницы, работницы в тяжёлых цехах» – и в пыли, и в грязи «сохраняют сильную упрямую красоту, с которой тяжёлая жизнь ничего не может поделать». Так же к финалу отнесен возврат с фронта майора Берёзкина – ну, и русский развёрнутый пейзаж. Вот, пожалуй, и всё; остальное – иного знака. Завистник Штрума по институту, обнимая другого такого же: «А всё же самое главное, что мы с вами русские люди». Единственную весьма верную реплику о приниженности русских в собственной стране, что «во имя дружбы народов всегда мы жертвуем русскими людьми», Гроссман вставляет лукавому и хамоватому партийному бонзе Гетманову – из того нового (послекоминтерновского) поколения партийных выдвиженцев, кто «любили в себе своё русское нутро и по-русски говорили неправильно», сила их «в хитрости». (Как будто у интернационального поколения коммунистов хитрости было меньше, ой-ой!)
С какого-то (позднего) момента Гроссман – да не он же один! – вывел для себя моральную тождественность немецкого национал-социализма и советского коммунизма. И честно стремится дать новообретенный вывод как один из высших в своей книге. Но вынужден для того замаскироваться (впрочем, для советской публичности всё равно крайняя смелость): изложить эту тождественность в придуманном ночном разговоре оберштурмбаннфюрера Лисса с арестантом коминтерновцем Мостовским: «Мы смотрим в зеркало. Разве вы не узнаёте себя, свою волю в нас?» Вот, вас «победим, останемся без вас, одни против чужого мира», «наша победа – это ваша победа». И заставляет Мостовского ужаснуться: неужели в этой «полной змеиного яда» речи – содержится какая-то правда? Но нет, конечно (для безопасности самого автора?): «наваждение длилось несколько секунд», «мысль обратилась в пыль».
А в какой-то момент Гроссман и от себя прямо называет берлинское восстание 1953 и венгерское 1956, однако не сами по себе, а в ряду с варшавским гетто и Треблинкой и лишь как материал для теоретического вывода о стремлении человека к свободе. А дальше это стремление всё прорывается: вот и Штрум в 1942, правда в частном разговоре с доверенным академиком Чепыжиным, – но прямо подковыривает Сталина (III – 25): «вот Хозяин всё крепил дружбу с немцами». Да Штрум, оказывается, мы и предположить того не могли, – уже годами с негодованием следит за чрезмерными славословиями Сталину. Так он давно всё понимает? нам это прежде не было сообщено. Вот и политически запачканный Даренский, публично заступаясь за пленного немца, кричит полковнику при солдатах: «мерзавец» (очень неправдоподобно). Четверо мало сознакомленных интеллигентов в тылу, в Казани, в 1942 же – пространно обсуждают расправы 1937 года, называя знаменитые заклятые имена (I – 64). И ещё не раз обобщённо – обо всей затерроренной атмосфере 1937 (III – 5, II – 26). И даже бабушка Шапошникова, политически совершенно нейтральная весь 1-й том, занятая только работой и семьёй, теперь вспоминает и «традиции народовольческой семьи» своей, и 1937, и коллективизацию, и даже голод 1921. Тем безогляднее и внучка её, ещё школьница, ведёт политические разговоры со своим ухажёром-лейтенантом и даже напевает магаданскую песню зэков. Теперь встретим и упоминание о голоде 1932 – 33.
А вот уже – шагаем и к последнему: в разгар Сталинградской битвы раскручивание политического «дела» на одного из высших героев – Грекова (вот это – советская действительность, да!) и даже к общему заключению автора о сталинградском торжестве, что и после него «молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался» (III – 17). Такое, правда, и в 1960 давалось не каждому. Жаль, что высказано это безо всякой связи с общим текстом, каким-то беглым вклинением, и – увы, не развито в книге более никак. И ещё к самому концу книги, отлично: «Сталин говорил: "братья и сёстры...» А когда немцев разбили – директору коттедж, без доклада не входить, а братья и сёстры в землянки» (III – 60).
Но и во 2-м томе встретится иногда от автора то «всемирная реакция» (II – 32), то вполне казённое: «дух советских войск был необычайно высок» (III – 8); и прочтём довольно торжественную похвалу Сталину, что он ещё 3 июля 1941 «первым понял тайну перевоплощения войны» в нашу победу (III – 56). И в возвышенном тоне восхищения думает Штрум о Сталине (III – 42) после сталинского телефонного звонка, – таких строк тоже не напишешь без авторского к ним сочувствия. И несомненно с таким же соучастием автор разделяет романтическое любование Крымова нелепым торжественным заседанием 6 ноября 1942 в Сталинграде – «в нём было что-то напоминавшее революционные праздники старой России». Да и взволнованные воспоминания Крымова о смерти Ленина тоже выявляют авторское соучастие (II – 39). Сам Гроссман несомненно сохраняет веру в Ленина. И свои прямые симпатии к Бухарину не пытается скрыть.
Таков – предел, которого Гроссман перейти не может.
И это же всё писалось – в расчёте (наивном) на публикацию в СССР. (Не оттого ли вклиняется и неубедительное: «Великий Сталин! Возможно, человек железной воли – самый безвольный из всех. Раб времени и обстоятельств».) Так что если «склочники» – то из райпрофсовета, а что-нибудь прямо в лоб коммунистической власти? – да Боже упаси. О генерале Власове – одно презрительное упоминание комкора Новикова (но ясно, что оно – и авторское, ибо кто в московской интеллигенции что-нибудь понимал о власовском движении даже и к 1960?). А дальше ещё неприкасаемее – один раз робчайшая догадка: «на что уж Ленин был умный, и тот не понял», – но сказано опять же этим отчаянным и обречённым Грековым (I – 61). Да ещё маячит к концу тома, как монумент, несокрушимый меньшевик (венок автора памяти своего отца?) Дрелинг, вечный зэк.
Да после 1955 – 56 он уже был много наслышан о лагерях, то была пора «возвращений» из ГУЛага, – и теперь автор эпопеи, уже хотя б из добросовестности, если не соображений композиции, пытается посильно охватить и зарешётчатый мир. Теперь – глазам пассажиров вольного поезда открывается и эшелон с заключёнными (II – 25). Теперь – отваживается автор и сам шагнуть в зону, описать её изнутри по приметам из рассказов вернувшихся. Для того выныривает глухо провалившийся в 1-м томе Абарчук, первый муж Людмилы Штрум, впрочем, коммунист-ортодокс, и в компанию к нему ещё сознательный коммунист Неумолимов, и ещё Абрам Рубин, из института Красной Профессуры (на льготном придурочьем посту фельдшера неправдоподобно прибедняется: «я низшая каста, неприкасаемый»), и ещё бывший чекист Магар, якобы тронутый поздним раскаянием об одном загубленном раскулаченном, и ещё другие интеллигенты – такие-то и возвращались тогда в московские круги. Автор старается реально изобразить лагерное утро (I – 39, есть детали верные, есть неверные). В нескольких главах уплотнённо иллюстрирует наглость блатных (только зачем же власть уголовных над политическими Гроссман называет «новаторством национал-социализма»? – нет уж, от большевиков, ещё с 1918, не отбирайте!), а учёный демократ неправдоподобно отказывается встать при вертухайском обходе. Эти несколько подряд лагерных глав проходят как в сером тумане: будто похоже, а – деланно. Но за такую попытку не упрекнёшь автора: ведь он с не меньшей смелостью берётся описать и лагерь военнопленных в Германии – и по требованиям эпопеи и для более настойчивой цели: сопоставить наконец коммунизм с нацизмом. Верно поднимается он и до другого обобщения: что советский лагерь и советская воля отвечают «законам симметрии». (Видимо, Гроссмана как бы шатало в понимании будущности своей книги: он же писал её для советской публичности! – а заодно с тем хотелось быть и до конца правдивым.) Вместе со своим персонажем Крымовым вступает Гроссман и в Большую Лубянку, тоже собранную по рассказам. (Естественны и здесь некоторые ошибки в реалиях и в атмосфере: то подследственный сидит прямо через стол от следователя и его бумаг; то, измученный бессонницей, не жалеет ночи на захватывающий разговор с сокамерником, да и надзиратели, странно, не мешают им в этом.) Несколько раз пишет (ошибочно для 1942): «МГБ» вместо «НКВД»; а ужасающей 501-й стройке приписывает только 10 тысяч жертв...
Вероятно, с такими же поправками надо воспринимать и несколько глав о немецком концлагере. Что там действовало коммунистическое подполье – да, это подтверждается свидетелями. Невозможная в лагерях советских, такая организация иногда создавалась и держалась в немецких благодаря общей национальной спайке против немецких охранников, да и близорукости послед-них. Однако Гроссман преувеличивает, что размах подполья был сквозь все лагеря, чуть не на всю Германию, что проносили с завода в жилую зону детали гранат и автоматов (это – ещё могло быть), а «в блоках вели сборку» (это уже фантазия). Но что несомненно: да, иные коммунисты втирались в доверие к немецкой охране, устраивали своих в придурки, – и могли неугодных себе, то есть антикоммунистов, отправлять на расправу или в штрафные лагеря (как у Гроссмана и отправляют в Бухенвальд народного вожака Ершова).
Теперь-то – гораздо свободнее Гроссман и в военной теме; теперь прочтём и такое, о чём и помыслить нельзя было в 1-м томе. Как командир танкового корпуса Новиков самовольно (и рискуя всей карьерой и орденами) на 8 минут задерживает атаку, назначенную командующим фронта, – чтобы лучше успели подавить огневые средства противника и не было бы больших потерь у наших. (И характерно: Новикова-брата, введенного в 1-й том исключительно для иллюстрации самоотверженного социалистического труда, теперь автор совсем забывает, тот как провалился, в серьёзной книге он уже не нужен.) Теперь к прежней легендарности командарма Чуйкова – добавляется и ярая зависть его к другим генералам и мертвецкое пьянство, до провала в полынью. И командир роты всю водку, полученную на бойцов, тратит на собственные именины. И своя авиация бомбит своих. И шлют пехоту на неподавленные пулемёты. И уже не читаем тех пафосных фраз о великом народном единстве. (Нет, кое-что осталось.)
Но реальность сталинградских боёв восприимчивый, наблюдательный Гроссман даже из корреспондентской должности ухватил достаточно. Бои в «доме Грекова» очень честно, со всей боевой действительностью описаны, как и сам Греков. Чётко видит автор и знает сталинградские боевые обстоятельства, лица, а уж атмосферу всех штабов – тем более достоверно. Заканчивая обзор военного Сталинграда, Гроссман пишет: «Его душой была свобода». Впрямь ли автор так думает или внушает себе, как хотелось бы думать? Нет, душой Сталинграда было: «за родную землю!»
Как мы видим из романа, как мы знаем и от свидетелей, и по другим публикациям автора – Гроссман был острейше заножён еврейской проблемой, положением евреев в СССР, а уж тем более к этому добавились жгучая боль, гнёт и ужас от уничтожения евреев по немецкую сторону фронта. Но в 1-м томе он цепенел перед советской цензурой да и внутренне ещё не осмелел оторваться от советского мышления – и мы видели, до какой же приниженной степени подавлена в 1-м томе еврейская тема, и уж, во всяком случае, ни штриха какой-либо еврейской стеснённости или неудовольствия в СССР.
Переход к свободе выражения дался Гроссману, как мы видели, нелегко, нецельно, без уравновешенности по всему объёму книги. Это же – и в еврейской проблеме. Вот евреям-сотрудникам института мешают вернуться с другими из эвакуации в Москву – реакция Штрума вполне в советской традиции: «Слава Богу, живём не в царской России». И тут – не наивность Штрума, автор последовательно проводит, что до войны ни духа, ни слуха какого-либо недоброжелательства или особого отношения к евреям в СССР не было. Сам Штрум «никогда не думал» о своём еврействе, «никогда до войны Штрум не думал о том, что он еврей», «никогда мать не говорила с ним об этом – ни в детстве, ни в годы студенчества»; об этом «его заставил думать фашизм». А где же тот «злобный антисемитизм», который так энергично подавлялся в СССР первые 15 советских лет? И мать Штрума: «забытое за годы советской власти, что я еврейка», «я никогда не чувствовала себя еврейкой». От настойчивой повторности теряется убедительность. И откуда же что взялось? Пришли немцы – соседка во дворе: «слава Богу, жuдам конец»; а на собрании горожан при немцах «сколько клеветы на евреев было» – откуда ж это вдруг всё прорвалось? и как оно держалось в стране, где все забыли о еврействе?
Если в 1-м томе почти не назывались еврейские фамилии – во 2-м мы встречаем их чаще. Вот штабной парикмахер Рубинчик играет на скрипке в Сталинграде, в родимцевском штабе. Там же – боевой капитан Мовшович, командир сапёрного батальона. Военврач доктор Майзель, хирург высшего класса, самоотверженный до такой степени, что ведёт трудную операцию при начале собственного приступа стенокардии. Неназванный по имени тихий ребёнок, хилый сын еврея-фабриканта, умерший когда-то в прошлом. Уже помянуты выше несколько евреев в сегодняшнем советском лагере. (Абарчук – бывший большой начальник на голодоморном кузбасском строительстве, но коммунистическое прошлое его подано мягко, да и сегодняшняя завидная в лагере должность инструментального кладовщика не объяснена.) И если в самой- семье Шапошниковых в 1-м томе было смутно затушёвано полуеврейское происхождение двух внуков – Серёжи и Толи, то о третьей внучке Наде во 2-м томе – и без связи с действием, и без необходимости – подчёркнуто: «Ну, ни капли нашей славянской крови в ней нет. Совершенно иудейская девица». – Для упрочения своего взгляда, что национальный признак не имеет реального влияния, Гроссман не раз подчёркнуто противопоставляет одного еврея другому по их позициям. «Господин Шапиро – представитель агентства "Юнайтед Пресс" – задавал на конференциях каверзные вопросы начальнику Совинформбюро Соломону Абрамовичу Лозовскому». Между Абарчуком и Рубиным – измышленное раздражение. Высокомерный, жестокий и корыстный комиссар авиаполка Берман не защищает, а даже публично клеймит несправедливо обиженного храброго лётчика Короля. И когда Штрума начинают травить в его институте – лукавый и толстозадый Гуревич предаёт его, на собрании развенчивает его научные успехи и намекает на «национальную нетерпимость» Штрума. Этот рассчитанный приём расстановки персонажей уже принимает характер растравы автором своего больного места. Незнакомые молодые люди увидели Штрума на вокзале ждущим поезда в Москву – тотчас: «Абрам из эвакуации возвращается», «спешит Абрам получить медаль за оборону Москвы».
Толстовцу Иконникову автор придаёт такой ход чувств. «Гонения, которые большевики проводили после революции против церкви, были полезны для христианской идеи» – и число тогдашних жертв не подорвало его религиозной веры; проповедовал он Евангелие и во время всеобщей коллективизации, наблюдая массовые жертвы, да ведь тоже и «коллективизация шла во имя добра». Но когда он увидел «казнь двадцати тысяч евреев... – в этот день [он] понял, что Бог не мог допустить подобное, и... стало очевидно, что его нет».
Теперь наконец Гроссман может позволить себе открыть нам содержание предсмертного письма матери Штрума, которое передано сыну в 1-м томе, но лишь смутно упомянуто, что оно принесло горечь: в 1952 году автор не решился отдать его в публикацию. Теперь оно занимает большую главу (I – 18) и с глубинным душевным чувством передаёт пережитое матерью в захваченном немцами украинском городе, разочарование в соседях, рядом с которыми жили годами; бытовые подробности изъятия местных евреев в загон искусственного временного гетто; жизнь там, разнообразные типы и психология захваченных евреев; и самоподготовление к неумолимой смерти. Письмо написано со скупым драматизмом, без трагических восклицаний – и очень выразительно. Вот гонят евреев по мостовой, а на тротуарах стоит глазеющая толпа; те – одеты по-летнему, а евреи, взявшие вещи в запас, – «в пальто, в шапках, женщины в тёплых платках», «мне показалось, что для евреев, идущих по улице, уже и солнце отказалось светить, они идут среди декабрьской ночной стужи».
Гроссман берётся описать и уничтожение механизированное, центральное, и прослеживая его от замысла; автор напряжённо сдержан, ни выкрика, ни рывка: оберштурмбаннфюрер Лисс деловито осматривает строящийся комбинат, и это идёт в технических терминах, мы не упреждаемся, что комбинат назначен для массового уничтожения людей. Срывается голос автора только на «сюрпризе» Эйхману и Лиссу: им предлагают в будущей газовой камере (это вставлено искусственно, в растравку) – столик с вином и закусками, и автор комментирует это как «милую выдумку». На вопрос же, о каком количестве евреев идёт речь, цифра не названа, автор тактично уклоняется, и только «Лисс, поражённый, спросил: – Миллионов?» – чувство меры художника.
Вместе с доктором Софьей Левинтон, захваченной в немецкий плен ещё в 1-м томе, автор теперь втягивает читателя в густеющий поток обречённых к уничтожению евреев. Сперва – это отражение в мозгу обезумевшего бухгалтера Розенберга массовых сожжений еврейских трупов. И ещё другое сумасшествие – недорастрелянной девушки, выбравшейся из общей могилы. При описании глубины страданий и бессвязных надежд, и наивных последних бытовых забот обречённых людей – Гроссман старается удерживаться в пределах бесстрастного натурализма. Все эти описания требуют недюжинной работы авторского воображения – представить, чего никто не видел и не испытал из живущих, не от кого было собирать достоверные показания, а надо вообразить эти детали – оброненный детский кубик или куколку бабочки в спичечной коробке. Автор в ряде глав старается быть как можно более фактичным, а то и будничным, избегая взрыва чувств и у себя, и у персонажей, затягиваемых принудительным механическим движением. Он представляет нам комбинат уничтожения – обобщённый, не называя его именем «Освенцим». Всплеск эмоций разрешает себе только при отзыве на музыку, сопровождающую колонну обречённых и диковинные потрясения от неё в душах. Это – очень сильно. И сразу вплотную – о чёрно-рыжей гнилой охимиченной воде, которая остатки уничтоженных смоет в мировой океан. И вот – последние чувства людей (у старой девы Левинтон вспыхивает материнское чувство к чужому малышу, и, чтобы быть с ним рядом, она отказывается выйти на спасительный вызов «кто тут хирург?»), даже и – душевный подъём гибели. И дальше, дальше автор вживается в каждую деталь: обманного «предбанника», стрижки женщин для сбора их волос, чьё-то остроумие на грани смерти, «мускульная сила плавно изгибающегося бетона, втягивавшего в себя человеческий поток», «какое-то полусонное скольжение», всё плотней, всё сжатее в камере, «всё короче шажки людей», «гипнотический бетонный ритм», закруживающий толпу, – и газовая смерть, темнящая глаза и сознание. (И на том бы – оборвать. Но автор, атеист, даёт вослед рассуждение, что смерть есть «переход из мира свободы в царство рабства» и «Вселенная, существовавшая в человеке, перестала быть», – это воспринимается как обидный срыв с душевной высоты, достигнутой предыдущими страницами.)
По сравнению с этой могучей самоубеждающей сценой массового уничтожения – слабо стоит в романе отдельная глава (II – 32) отвлечённого рассуждения об антисемитизме: о его разнородностях, о его содержании и сведение всех причин его – к бездарности завистников. Рассуждение сбивчивое, не опёртое на историю и далёкое от исчерпания темы. Наряду с рядом верных замечаний – ткань этой главы весьма неравнозначна.
А сюжетно еврейская проблема в романе больше строится вокруг физика Штрума. В 1-м томе автор не давал себе смелости развернуть образ, теперь он на это решается – и главная линия тесно переплетена с еврейским происхождением Штрума. Теперь, с опозданием, мы узнаём о тошном ему «вечном комплексе неполноценности», который он испытывает в советской обстановке: «входишь в зал заседаний – первый ряд свободен, но я не решаюсь сесть, иду на камчатку». Тут – и сотрясающее действие на него предсмертного письма матери.
О самой сути научного открытия Штрума автор, по законам художественного текста, разумеется, не сообщает нам, и не должен. А поэтическая глава (I – 17) о физике вообще – хороша. Весьма правдоподобно описывается момент угадки зерна новой теории – момент, когда Штрум был занят совсем другими разговорами и заботами. Эту мысль «казалось, не он породил, она поднялась просто, легко, как белый водяной цветок из спокойной тьмы озера». В нарочито неточных выражениях открытие Штрума поднято как эпохальное (это – хорошо изъявлено: «рухнуло тяготение, масса, время, двоится пространство, не имеющее бытия, а один лишь магнетический смысл»), «классическая теория сама стала лишь частным случаем в разработанном Штрумом новом широком решении», институтские сотрудники прямо ставят Штрума вслед за Бором и Планком. От Чепыжина, практичнее того, узнаём, что теория Штрума пригодится в разработке ядерных процессов.
Чтобы жизненно уравновесить величие открытия, Гроссман, с верным художественным тактом, начинает копаться в личных недостатках Штрума, кое-кто из коллег-физиков считает его недобрым, насмешливым, надменным. Гроссман снижает его и внешне: «чесался и выпячивал губу», «шизофренически накуксится», «шаркающая походка», «неряха», любит дразнить домашних, близких, груб и несправедлив к пасынку; а однажды «в бешенстве порвал на себе рубаху и, запутавшись в кальсонах, на одной ноге поскакал к жене, подняв кулак, готовый ударить». Зато у него «жёсткая, смелая прямота» и «вдохновение». Иногда автор отмечает самолюбивость Штрума, часто – его раздражительность, и довольно мелкую, вот и на жену. «Мучительное раздражение охватило Штрума», «томительное, из глубины души идущее раздражение». (Через Штрума автор как бы разряжается и от тех напряжений, которые сам испытал в стеснениях многих лет.) «Штрума сердили разговоры на житейские темы, а ночью, когда не мог уснуть, думал о прикреплении к московскому распределителю». Воротясь из эвакуации в свою просторную, благоустроенную московскую квартиру, с небрежением замечает, что шофёра, поднесшего их багаж, «видимо всерьёз занимал жилищный вопрос». А получив желанный привилегированный «продовольственный пакет», терзается, что и сотруднику меньшего калибра дали не меньший: «Удивительно у нас умеют оскорблять людей».
Каковы его политические взгляды? (Двоюродный брат его отбыл лагерный срок и отправлен в ссылку.) «До войны у Штрума не возникали особо острые сомнения» (по 1-му тому припомним, что – и во время войны не возникали). Например, он тогда верил диким обвинениям против знаменитого профессора Плетнёва – о, из «молитвенного отношения к русскому печатному слову», – это о «Правде»... и даже в 1937 году?.. (В другом месте: «Вспомнился 1937 год, когда почти ежедневно назывались фамилии арестованных минувшей ночью..-.») Ещё в одном месте читаем, что Штрум даже «охал по поводу страданий раскулаченных в период коллективизации», что уж и вовсе непредставимо. Вот что Достоевскому «скорей "Дневник писателя" не надо было писать» – в это его мнение верится. К концу эвакуации, в кругу институтских сотрудников, Штрума вдруг прорывает, что в науке для него не авторитеты – «заведующий отделом науки ЦК» Жданов «и даже...». Тут «ждали, что он произнесёт имя Сталина», но он благоразумно только «махнул рукой». Да, впрочем, уже домашним: «все мои разговоры... дуля в кармане».
Не всё это у Гроссмана увязано (может быть, и не успел он доработать книгу до последнего штриха) – а важней, что ведёт-то он своего героя к тяжкому и решительному испытанию. И вот оно подступило – в 1943 вместо бы ожидаемого 1948 – 49, анахронизм, но это дозволенный для автора приём, ибо он камуфляжно переносит сюда уже собственное такое же тяжкое испытание 1953 года. Разумеется, в 1943 физическое открытие, сулящее ядерное применение, мог ожидать только почёт и успех, а никак не гонение, возникшее у коллег без приказа сверху, и даже обнаруживших в открытии «дух иудаизма», – но так надо автору: воспроизвести обстановку уже конца 40-х годов. (В череде немыслимых по хронологии забеганий Гроссман уже называет и расстрел Антифашистского Еврейского комитета, и «дело врачей», 1952.)
И – навалилось. «Холодок страха коснулся Штрума, того, что всегда тайно жил в сердце, страха перед гневом государства». Тут же наносится удар и по его второстепенным сотрудникам-евреям. Сперва, ещё не оценив глубины опасности, Штрум берётся высказать директору института дерзости – хотя перед другим академиком, Шишаковым, «пирамидальным буйволом», робеет, «как местечковый еврей перед кавалерийским полковником». Удар приходится тем больней, что постигает вместо ожидаемой Сталинской премии. Штрум оказывается очень отзывчив на вспыхнувшую травлю и, не в последнюю очередь, на все бытовые последствия её – лишение дачи, закрытого распределителя и возможные квартирные стеснения. Ещё даже раньше, чем ему подсказывают коллеги, Штрум по инерции советского гражданина сам догадывается: «написать бы покаянное письмо, ведь все пишут в таких ситуациях». Дальше его чувства и поступки чередуются с большой психологической верностью, и описаны находчиво. Он пытается развеяться в разговоре с Чепыжиным (старуха-прислуга Чепыжина при том целует Штрума в плечо: напутствует на казнь?). А Чепыжин вместо подбодрений сразу пускается в изложение путаной, атеистически бредовой, смешанной научно-социальной своей гипотезы: как человечество свободной эволюцией превзойдёт Бога. (Чепыжин был искусственно изобретен и впихнут в 1-й том, такой же он дутый и в этой придуманной сцене.) Но независимо от пустоты излагаемой гипотезы – психологически очень верно поведение Штрума, приехавшего ведь за духовным подкреплением. Он полунеслышит эту тягомотину, тоскливо думает про себя: «мне не до философии, ведь меня посадить могут», ещё продолжает думать: так идти ли ему каяться или нет? а вывод вслух: «наукой должны заниматься в наше время люди великой души, пророки, святые», «где мне взять веру, силу, стойкость, – быстро проговорил он, и в голосе его послышался еврейский акцент». Жалко себя. Уходит, и на лестнице «слёзы текли по его щекам». А уже скоро идти на решающий Учёный совет. Читает и перечитывает своё возможное покаянное заявление. Начинает партию в шахматы – и тут же рассеянно покидает её, очень живо всё, и соседние с тем реплики. Вот уже «воровски оглядываясь, с жалкими местечковыми ужимками торопливо повязывает галстук», торопится успеть на покаяние – и находит силы оттолкнуть этот шаг, снимает и галстук, и пиджак, – он не пойдёт.
А дальше его гнетут страхи – и незнание, кто же выступал против него, и что говорили, и что теперь с ним сделают? Теперь, в окостенении, он по нескольку дней не выходит из дома, – ему перестали звонить по телефону, его предали и те, на чью поддержку он надеялся, – а бытовые стеснения уже и душат: уже «боялся управдома и девицы из карточного бюро», отнимут излишки жилой площади, член-корреспондентскую зарплату, – продавать вещи? и даже, в последнем отчаянии, «часто думал о том, что пойдёт в военкомат, откажется от брони Академии и попросится красноармейцем на фронт»... А тут ещё и арест свояка, бывшего мужа сестры жены, не грозит ли тем, что и Штрума арестуют? Как всякий благополучный человек: ещё и не сильно его тряхнули, ощущает же он как последний край существования.
А дальше – вполне советский оборот: магический доброжелательный звонок Сталина к Штруму – и сразу всё сказочно переменилось, и сотрудники кидаются к Штруму заискивать. Так учёный – победил и устоял? Редчайший пример стойкости в советское время?
Не тут-то было, Гроссман безошибочно ведёт: а теперь следующее, не менее страшное искушение – от ласковых объятий. Хотя Штрум упреждающе и оправдывает себя, что он – не такой же, как помилованные лагерники, тут же всё простившие и проклявшие своих прежних сомучеников. Но вот уже опасается бросить на себя тень жениной сестры, хлопочущей об арестованном муже, его раздражает и жена, зато весьма приятно стало благоволение начальства и «попадание в какие-то особые списки». «Самым удивительным было то», что от людей, «ещё недавно полных к нему презрения и подозритель-ности», он теперь «естественно воспринимал их дружеские чувства». Даже с удивлением ощутил: «администраторы и партийные деятели... неожиданно эти люди открылись Штруму с другой, человеческой стороны». И при таком-то его благодушном состоянии это новоласковое начальство предлагает ему подписать гнуснейшее сов-патриотическое письмо в «Нью-Йорк таймс». И Штрум не находит силы и выверта, как отказаться, – и безвольно подписывает. «Какое-то тёмное тошное чувство покорности», «бессилия, замагниченность, послушное чувство закормленной и забалованной скотины, страх перед новым разорением жизни».
Таким поворотом сюжета – Гроссман казнит сам себя за свою покорную подпись января 1953 по «делу врачей». (Даже, для буквальности, чтобы осталось «дело врачей», – анахронистически вкрапляет сюда тех давно уничтоженных профессоров Плетнёва и Левина.) Вот кажется: теперь напечатают 2-й том – и раскаяние произнесено публично.
Да только вместо того – гебисты пришли и конфисковали рукопись...
Великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 в Кисловодске. Его отец, Исаакий Семёнович , происходил из крестьян села Саблинского (ныне Ставропольский край). Офицер Первой Мировой войны , он погиб за полгода до появления на свет сына от несчастного случая на охоте. Мать Солженицына, Таисия Захаровна , была дочерью крупного землевладельца с Кубани, Захара Щербака, который в молодости начинал нищим батраком, работавшим за одну еду, а потом разбогател собственными трудами.
Новый секретарь ЦК по идеологии Демичев провёл личную беседу с Солженицыным, склоняя его стать лояльным советским писателем. Но КГБ обложило А. И. слежкой, установив прослушки у большинства его друзей. Вечером 11 сентября 1965 по материалам прослушиваний был сделан обыск у двух знакомых писателя – В. Теуша и И. Зильберберга. Чекисты захватили у них архив Солженицына – все его уже написанные произведения, кроме тщательно скрываемого «Архипелага». Из этих материалов кремлёвским вождям окончательно прояснилось то, что они уже давно подозревали: в своей критике советского строя писатель идёт гораздо дальше, чем можно было предполагать из «Ивана Денисовича» и «Матрёны» – он отрицает коммунизм целиком, а не отдельные его «недостатки».
Солженицын ждал ареста, но власти выбрали по отношению к нему иную тактику. Опасаясь бурной общественной реакции в СССР и на Западе, они решили не поднимать шума, а «удушить» писателя медленно и постепенно: окончательно пресечь ему возможность печататься на родине и развернуть кампанию клеветы. Наёмные лекторы стали рассказывать на партсобраниях, что Солженицын сидел в лагере по уголовному делу, а на войне был власовцем . Напечатанный «Новым миром» в январе 1966 почти «нейтральный» рассказ «Захар-Калита » стал последней легальной публикацией Солженицына в Советском Союзе до 1988 года. КГБ давал читать захваченные им «антикоммунистические» произведения А. И. виднейшим официальным литераторам, и те писали «возмущённые» рецензии на них в ЦК.
Зимы 1965-1966 и 1966-1967 Солженицын проработал в Эстонии над «Архипелагом». Он продолжал писать и начатую ранее повесть «Раковый корпус » о бывшем зэке, подвергшемся смертельной болезни. Первая часть «Корпуса» вскоре была предложена в «Новый мир». Твардовский вначале хотел публиковать её, но потом заявил, что выступать с такой вещью сейчас рискованно. Когда повесть отклонили и другие журналы, А. И. отдал её в Самиздат.
Общественность проявляла горячие симпатии к Солженицыну. Осенью 1966 его стали приглашать на выступления перед коллективами научных и культурных учреждений Москвы. Власти запрещали эти встречи, но две из них всё же удалось провести – в институтах Атомной энергии и Востоковедения. На обе собрались сотни слушателей, которые рукоплесканиями приветствовали чтение Александром Исаевичем самых «смелых» отрывков из «Корпуса» и «Круга». 16 ноября 1966 московские писатели, вопреки препонам сверху, устроили в Доме литераторов обсуждение «Ракового корпуса». Большинство выразило здесь полную поддержку автору повести.
В мае 1967 состоялся IV съезд Союза советских писателей. Солженицын обратился к нему с открытым письмом , где указывал, что на протяжении всей советской эпохи литература пребывала под гнётом ничего в ней не понимавших администраторов, и лучшие мастера пера подвергались суровым гонениям. Президиум съезда замолчал письмо, но около 100 писателей в особом обращении потребовали обсудить его – это было неслыханным для СССР событием!
Многие партийные бонзы требовали суровых репрессий против Солженицына, однако перед лицом широкого одобрения письма советской и зарубежной интеллигенцией власти побоялись вконец очернить себя. В июне и сентябре 1967 секретариат Союза писателей дважды приглашал Александра Исаевича к себе «на беседы». Солженицына убеждали решительно и публично «отмежеваться от буржуазной прессы», которая отказывала ему поддержку. Взамен обещали дать разрешение на публикацию «Ракового корпуса» и опровергнуть распространяемую клевету. Однако ни один из этих посулов не был исполнен. КГБ, напротив, прибег к новому «хитрому плану». В 1968 он через своих агентов Виктора Луи и словака Павла Личко передал «Корпус» для публикации в несколько западных издательств. Чекисты скрывали свою причастность к этой акции. После новых изданий на Западе они рассчитывали усилить яростную кампанию против «связей Солженицына с враждебной заграницей» и внушать всем, что он печатается там из-за денег. А. И. в ответ заявил, что никто из зарубежных издателей не получал от него права на публикацию «Ракового корпуса».
С конца апреля по начало июня 1968 Солженицын с женой и преданными помощницами Е. Воронянской и Е. Чуковской отпечатал на даче в Рождестве-на-Истье окончательную редакцию «Архипелага». Через неделю плёнка руками внука Леонида Андреева , Александра, была переправлена в Париж. Однако она попала в руки нечистоплотной внучки Андреева Ольги Карлайл, которая тянула с переводом книги на английский, желая правдами и неправдами присвоить себе копирайт на неё. В 1971 Солженицыну пришлось передать на Запад новую плёнку «ГУЛАГа».
Тайная история «Архипелага ГУЛАГ». Документальный фильм
11 декабря 1968 Александру Исаевичу исполнилось пятьдесят лет. В Рязань пришло более 500 поздравительных телеграмм и 200 писем со всей страны. В ответном письме верным друзьям юбиляр говорил: «Я обещаю… никогда не изменить истине. Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России».
Н. Решетовская была не слишком довольна отказом мужа от сытой карьеры ласкаемого властями советского литературного мэтра. Её раздражало и то, что ради конспиративной работы над новыми книгами он подолгу отсутствует дома, «не живёт с семьёй». Детей у Решетовской и Солженицына не было. В августе 1968 Александр Исаевич познакомился с новой молодой помощницей – Натальей Дмитриевной Светловой . Очень целеустремлённая, энергичная и трудолюбивая, она помогла устроить самое крупное и безотказное хранение архивов писателя. Между нею и Солженицыным вскоре завязались любовные отношения.
С начала марта 1969 А. И. стал писать эпопею о революции 1917 – «Красное колесо », которую считал главной книгой своей жизни. Росла вероятность, что КГБ попытается его убить, и в сентябре 1969 Солженицына пригласила поселиться на своей даче в элитной Жуковке знаменитая музыкальная чета – Мстислав Ростропович и Галина Вишневская . В ноябре 1969 по настоянию властей Солженицын был исключён из Союза Писателей. В ответ он составил гневное обличительное письмо Секретариату СП. Протест против исключения выразили многие советские (Можаев, Бакланов, Трифонов, Окуджава, Войнович, Тендряков, Максимов, Копелев, Л. Чуковская) и западные литераторы.
В 1970 Солженицын был выдвинут за границей кандидатом на Нобелевскую премию по литературе как «величайший писатель современности, равный Достоевскому ». Кремль оказывал давление на правительства Франции и Швеции с целью не допустить присуждения премии Солженицыну, но 8 октября 1970 он был объявлен её лауреатом. Однако советская кампания угроз всё-таки оказалась небезуспешной. А. И. вначале хотел ехать за премией в Стокгольм, чтобы «грянуть» там пламенной речью против коммунизма. Но напуганные шведы настаивали: его визит должен пройти максимально тихо. Они предлагали Солженицыну по возможности избегать общения с прессой и ограничиться трёхминутной благодарностью во время нобелевского банкета, под стук ножей и вилок. Поездка в Стокгольм потеряла общественный смысл, и писатель от неё отказался.
Летом 1970 узналось, что у Натальи Светловой будет ребёнок от А. И. Не желая расставаться с мужем-нобелевским лауреатом, Решетовская 14 октября предприняла на даче Ростроповича демонстративную попытку самоубийства. Она напилась таблеток снотворного, но её откачали. В ночь на 30 декабря Наталья Дмитриевна родила сына, Ермолая Солженицына.
Зимой 1970-1971 Александр Исаевич окончил первый узел «Красного колеса» – роман «Август Четырнадцатого ». Он был переправлен в Париж, к Никите Струве, главе издательства «ИМКА-пресс», и в июне вышел там на русском языке. Эта написанная с русско-патриотических позиций книга вызвала не только новый истошный вой коммунистических прихвостней, но и оттолкнула от Солженицына западническую часть интеллигенции, в том числе ряд его недавних близких помощников.
Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в городе Кисловодск в семье крестьянина и казачки. Бедствующая семья Александра в 1924 году переехала в Ростов-на-Дону. С 1926 года будущий писатель обучался в местной школе. В это время он создает свои первые эссе и стихотворения.
В 1936 году Солженицын поступил в Ростовский университет на физико-математический факультет, продолжая при этом заниматься литературной деятельностью. В 1941 году писатель окончил Ростовский университет с отличием. В 1939 году, Солженицын поступил на заочное отделение факультета литературы в Московский Институт философии, литературы и истории, однако из-за начала войны не смог его окончить.
Вторая мировая война
Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. С 1941 года писатель служил в 74-ом транспортно-гужевом батальоне. В 1942 году Александра Исаевича направили в Костромское военное училище, по окончанию которого он получил звание лейтенанта. С 1943 года Солженицын служит командиром батареи звуковой разведки. За военные заслуги Александр Исаевич был награжден двумя почетными орденами, получил звание старшего лейтенанта, а затем капитана. В этот период Солженицын не прекращал писать, вел дневник.
Заключение и ссылка
Александр Исаевич критически относился к политике Сталина , в своих письмах к другу Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель был арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й статье). Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография которого и так была достаточно непростой, обнаружили рак.
Годы заключения нашли отражение в литературном творчестве Солженицына: в произведениях «Люби революцию», «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Знают истину танки» и др.
Конфликты с властями
Поселившись в Рязани, писатель работает учителем в местной школе, продолжает писать. В 1965 году КГБ захватывает архив Солженицына, ему запрещают публиковать свои произведения. В 1967 году Александр Исаевич пишет открытое письмо Съезду советских писателей, после которого власти начинают воспринимать его как серьезного противника.
В 1968 году Солженицын заканчивает работу над произведением «Архипелаг ГУЛАГ» за границей выходят «В круге первом» и «Раковый корпус».
В 1969 году Александр Исаевич был исключен из Союза писателей. После публикации за границей в 1974 году первого тома «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын был арестован и выслан в ФРГ.
Жизнь за границей. Последние годы
В 1975 – 1994 годах писатель посетил Германию, Швейцарию, США, Канаду, Францию, Великобританию, Испанию. В 1989 году «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые опубликован в России в журнале «Новый мир», вскоре в журнале публикуется и рассказ «Матренин двор» .
В 1994 году Александр Исаевич возвращается в Россию. Писатель продолжает активно заниматься литературной деятельностью. В 2006 – 2007 годах выходят первые книги 30-томного собрания сочинений Солженицына.
Датой, когда оборвалась трудная судьба великого писателя, стало 3 августа 2008 года. Солженицын умер в своем доме в Троице-Лыкове от сердечной недостаточности. Похоронили писателя в некрополе Донского монастыря.
Хронологическая таблица
Другие варианты биографии
- Александр Исаевич был дважды женат – на Наталье Решетовской и Наталье Светловой. От второго брака у писателя трое талантливых сыновей – Ермолай, Игнат и Степан Солженицыны.
- В краткой биографии Солженицына нельзя не упомянуть, что он был удостоен более двадцати почетных наград, среди которых Нобелевская премия за произведение «Архипелаг ГУЛАГ».
- Литературные критики нередко называют Солженицына
«Чтоб вышло мне по
воле рока
И жизнь, и скорбь, и
смерть пророка»
Н.Огарев
Имя Александра Солженицына, долгое время, бывшее под запретом, наконец-то по праву заняло свое место в истории русской литературы. Стать живой памятью нации…. Вернуть людям, собранным в безликие массы, в толпы, в социальные множества, ощущение уникальности, неповторимости единичного человеческого лица. Очистить человеческое зрение от пыли, от сора всяких иллюзий, ложных представлений и сделать подлинно зрячей, не предписанной любовь каждого к родине. Как совершить это? Только великий сын России задумается над этим.
После издания «Архипелага ГУЛАГа» (а это произошло лишь в 1989 году) ни в русской, ни в мировой литературе не осталось произведений, которые бы представляли большую опасность для советского режима. Эта книга раскрывала всю сущность тоталитарного государства. Пелена лжи и самообмана, все еще застилавшая глаза многим нашим согражданам, спадала.
Эта книга оказала на меня большое эмоциональное воздействие с одной стороны, документальное свидетельство, с другой – искусство слова. В памяти запечатлелся чудовищный, фантастический образ жертв «строительства коммунизма» в России за годы советской-уже ничего не удивительно и не страшно.
Я восхищаюсь стойкостью и мужеством этого человека. Жизнь Солженицына оказалась нелегка. Александр Исаевич родился в декабре 1918 годав городе Кисловодске. Отец его происходил из крестьян, мать была дочерью пастуха, ставшего впоследствии зажиточным хуторянином. Еще в школе отрешился юный Александр от утопических обольщений и осознал себя как невольного свидетеля и вероятного летописца переломных событий революции, всего разлома в истории двадцатого века. После средней школы Солженицын заканчивает в Ростове – на – Дону физико-математический факультет университета и одновременно поступает на заочное отделение в Московский институт философии и литературы. Не успев закончить последних двух курсов, уходит на войну. С 1942 по 1945-й Солженицын командует батареей на фронте, награжден орденами и медалями. В феврале 45-го он был арестован из-за критики Сталина и осужден на восемь лет, из которых почти год был под следствием. Затем в Казахстан «навечно». Однако с февраля 1957 года последовала реабилитация. Работал школьным учителем в Рязани. После появления в 1962 году произведения «Один день из жизни Ивана Денисовича» Солженицын был принят в Союз писателей. На следующие работы он вынужден отдавать в «Самиздат» или печатать в Зарубежье. В 1969 году его исключили из Союза писателей. А в 1970 году удостоен Нобелевской премии. В связи с выходом в 1974 году первого тома «Архипелага ГУЛАГа» Солженицын был изгнан на Запад. До 1976 года писатель жил в Цюрихе, затем перебрался в штат Вермонт, природой напоминающий среднюю полосу России.
Первые опубликованные на Родине произведения автора, повесть «Один день Ивана Денисовича» (1962), рассказ «Матренин двор» (1963), появились на исходе хрущевской «оттепели», в преддверии периода застоя. В наследии великого писателя они, как и другие небольшие рассказы тех же 60-х годов: «Случай на станции Кочетовка» (1963), «Захар -Калита» (1966), «Крохотки» (1966), остаются самыми бесспорными, классикой. С одной стороны классикой «лагерной» прозы, а с другой – прозы «деревенской».
Мне лично очень-очень нравятся «Крохотки». Философия мира и человека в таком маленьком произведении. Это удивительно.
Чисто народные характеры показаны автором в рассказах «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича» в образах старухи Матрены и заключенного Щ-854 Шухова. Понимание народного характера у Солженицына гораздо шире этих двух образов и включает в себя черты не только «простого человека», а и представителей других слоев общества. Но именно в этих образах истинный сын России показал то, на чем держится Русь. Хотя герои Солженицына пережили много обманов, разочарований в жизни – и Матрена, и Иван Денисович сохраняют удивительную цельность, силу и простоту характера. Своим существованием они как бы говорят, что Россия есть, есть надежда на возрождение.
Мне особенно хотелось бы обратить внимание на главную героиню рассказа «Матренин двор». Солженицын вносил и выстрадал этот образ-символ. В бескорыстии и кротости Матрены он усматривает долю праведности. Эта праведность идет из глубины ее души – она была «в ладах с совестью своей». Я восхищаюсь человечностью, высокой нравственностью этой женщины-труженицы, на таких земля держится.
Мир рассказов, повестей, романов Солженицына огромен и разнообразен. Его творчество притягивает правдивостью, болью за происходящее, прозорливостью. Он все время предупреждает нас: не теряйтесь в истории. Основной темой трудов Александра Исаевича является разоблачение тоталитарной системы, доказательство невозможности существования в ней человека.
Наш современник, возмутитель спокойствия в застойное лихолетье изгнанник с неслыханной мировой славой, один из «зубров» литературы русского зарубежья, Солженицын соединяет в своем личностном облике и творчестве многие тревожащие нас проблемы. На пороге двадцать первого векаон продолжал трудиться на благо отечества: писал статьи, встречалсяс людьми, вел переписку, выступал на телевидении. Его по праву можно назвать великим сыном России.
После знакомства с жизнью и творчеством А.И.Солженицына, я иначе стала смотреть на окружающую меня жизнь. Я думаю, что мечты могут и не сбыться, счастье – не состояться, успех – не прийти, но человек, уже родившийся, должен пройти свой путь, каким бы он ни был (удачным — неудачным), сохранив в себе и мужество, и человечность, и благородство, не убить то высокое, что заложено в нем самой природой.
Тема раскрыта полностью. Язык сочинения грамотен. Вступление и заключение соответствуют теме сочинения, логически связаны с основной частью. Использованы разные языковые средства. Умело высказана своя точка зрения. Автор сочинения сумел выделить и осмыслить основные вехи жизни, творчества и судьбы А.И.Солженицына.